ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
АРХИВ АНТОЛОГИИ ЖИВОГО СЛОВА
2005 № 4 (71)
| ГЛАВНАЯ | ВЕСЬ АРХИВ АНТОЛОГИИ ЖИВОГО СЛОВА | Пульс | Мозаика | Общество | Культура | КОНТАКТЫ | РЕДАКЦИЯ |

Владимир Радзишевский Посмертное эхо живых голосов
Павел Беккерман – РУБРИКА «ШАНСОН»
Алексей Варламов ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
ЮМОРЕСКИ: Олег Вулф ПИСЬМО УЧЕНОГО ИЗ США
Владимир Радзишевский
О КНИГЕ: В.В. Бибихин. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. – М.: Институт философии, теологии и истории Святого Фомы, 2004. – 416 с.
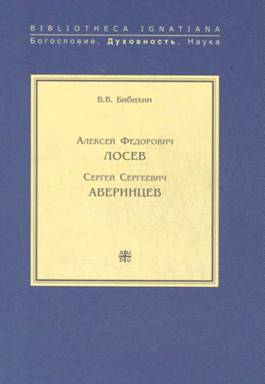
Легенда послевоенного Арбата, последний философ, сохранявший живую связь с Серебряным веком, глубокий и оригинальный исследователь античной словесности, А.Ф. Лосев родился в 1893-м, в один год с Мао Цзэдуном, Владимиром Маяковским, Виктором Шкловским… И пережил их всех. Уходя из жизни на 95-м году, вряд ли он оставлял хотя бы кого-нибудь из своих сверстников. Ему было 44, когда родился Аверинцев, и 45, когда родился Бибихин. Оба годились Лосеву во внуки и оба слыли его учениками. Хотя каждый по-своему, как мог, открещивался от этого, казалось бы, весьма лестного статуса. Аверинцев на 90-летии Лосева в Ленинском пединституте в присутствии юбиляра говорил от целого поколения и говорил слишком красиво, но по существу уклончиво: «Я не люблю слово „поклонники“ и не хочу нас так называть. Не назову нас и учениками. Быть судьбой это больше, чем быть учителем. Судьба есть судьба. Сыновство больше, чем ученичество». Бибихин же в дневнике, наедине с собою, мог быть гораздо более откровенным: «И с Лосевым была не школа – подмастерье не ученик».
Бибихин и был у Лосева подмастерьем в точном значении слова. «Алексею Федоровичу Лосеву, – пишет он, – требовалось из-за слабости зрения читать на языках. Не зная, как это делалось до меня, я стал читать сразу по-русски. Это пригодилось, и мне позволили часто бывать у него, также и для письма, после чтения, под диктовку. Мне давали делать дома письменные рефераты». Это была работа секретаря, помощника и, как дает понять Бибихин, безымянного соавтора, то есть, проще говоря, негра. Она продолжалась с середины 1970 года по 17 июля 1972-го. Целых два года выпускник Института иностранных языков, не сумевший прижиться ни в системе Главлита, куда его распределили после вуза, ни в издательстве «Мысль», ни на кафедре Института международных отношений, «имел основным местом работы тихий кабинет Лосева». Но записывать за Лосевым для себя Бибихин стал ещё раньше, осенью 1964 года, как только появился в его доме на занятиях по греческому языку – их Лосев вел для аспирантов Пединститута имени Ленина, где служил профессором. Но толстая тетрадь с систематическими записями почти за два года, которую взяла для подготовки к экзамену красавица аспирантка, к хозяину так и не вернулась. И теперь книга рассказов и разговоров Лосева, записанных Владимиром Вениаминовичем Бибихиным, начинается пятью заметками, по счастью, оказавшимися в другой тетради и единственно уцелевшими от двухлетних занятий. Первая запись помечена 10 ноября 1964. А весь корпус записей заканчивается 25 мая 2004 года – службой на могиле Лосева в 16-ю годовщину его смерти.
Смакование греческих вокабул, разъяснение и уточнение позиций и деталей по ходу работы над аристотелевским томом «Истории античной эстетики» – это больше для специалистов, осваивающих лосевское наследие. Записи Бибихина оживляют письменные тексты, показывают, как они обдумывались и отстраивались. Но, по определению, примечания к Шекспиру, не могут быть важнее самого Шекспира. Попутные же воспоминания и рассуждения Лосева, его, так сказать, вставные новеллы, не будь они записаны на лету прилежным подмастерьем, исчезли бы вовсе, не оставив следа. А в них-то сильнее всего и запечатлелся живой Лосев с его пристрастиями и ухватками, с его юмором и подлинным голосом.
– Скажите, отец Павел, – спросили как-то Павла Александровича Флоренского, – вы видали гениальных людей?
– Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Василий Розанов, – ответил тот.
Лосев, похоже, с одобрением вспоминает эту репризу. Для него Андрей Белый тоже гениальный человек своего времени, а Вячеслав Иванов и вовсе «Данте 20 века». Но зато сам Флоренский у Лосева на подозрении: символист и декадент, «он не был практикующим священником, а священство принял „для личного удовлетворения“; нелепо называть его „церковным деятелем“, иначе всякую старушонку, которая крестится, ложась в постель, тоже пришлось бы называть религиозным деятелем». «Я его лично знал, – уточняет Лосев, – человек тихий, скромный, с опущенными глазами, имел пять человек детей. То, что он имел пять человек детей, кажется, противоречит отрешенности». И совсем уже странная история: друг Лосева «был на одном заседании ГПУ (именно ГПУ), где удивился присутствию человека в рясе и особенно тому, как некое официальное лицо объявило, что „теперь попросим уважаемого Павла Александровича председательствовать на нашем заседании“, после чего Флоренский поднялся в президиум и вел собрание».
Сравнивая Флоренского с Бердяевым, Лосев отмечает, что вообще к советской власти отец Павел относился «бесконечно лояльнее», чем Бердяев. Бердяева Лосев знал тоже не только по книгам. «Я слушал Бердяева, – говорит он, – еще когда был мальчишкой, но всё же на разные собрания ходил… Огромное впечатление. Блестящий оратор. У него был недостаток, от которого он всю жизнь страдал, тик на лице… ужасный тик, он поминутно перекашивался в лице и вытягивал язык. Но это не мешало ему говорить. Говорил он прекрасно».
В «Эстетике Возрождения» Лосев посвятил небольшую главу «оборотной стороне титанизма». Речи не могло быть о том, чтобы при советской цензуре высказаться до конца и прямо о причинах чудовищного аморализма так называемых титанов Возрождения, хотя догадаться об авторской позиции не составляло труда: чего еще ждать от людей, которые поставили себя выше Бога! Зато в домашних разговорах Лосев ничем не был стеснен:
«„Вечерю“ Леонардо написал не как икону, а как картину. Он чувствовал, что сделал ее хорошо, очень хорошо, но он всё равно не сделал там всего, что хотел. Потому что христианские струнки в нем не бились. Может быть, „Вечерю“ кто-нибудь и повесил бы в храме, но лучше ей быть в Третьяковке.
Возрождение, я тебе скажу, дело неудачное, и не могло оно удаться. Человек, видите ли, царь природы; и уже считает себя центром мира, раз поднялся на 100 километров от земли. Глупо. Ведь там, дальше, еще миллионы световых лет. Поэтому Возрождение такое текучее. Всё течет, не на чем остановиться. Отделилась иконография от культа, от религии только сюжет остался. Настоящий правоверный скажет: это же издевательство».
Подлинный самосуд вершит Лосев над самой знаменитой картиной Леонардо да Винчи – портретом Моны Лизы Джоконды:
«Джоконда… Тоже подозрительный портрет. Во-первых, явно блудливый взгляд, не улыбка, а как-то ощеривается. Что-то страшное в этом есть, и на первом плане блуд, что-то блудливое, зовущее к наслаждению первого мужчину. Никакой духовности. Мещанину кажется, что загадочно. Ничего подобного. Главное тут как раз в том, что никакой таинственности нет.
Вот где настоящее Возрождение. Он (Леонардо) понял, что если от Бога отказался, то многое может создать, и вот он извращенно сочетает разные вещи. В «Моне Лизе», хотя и поприличнее, но внутренне смрадно и отвратительно. Когда я рассмотрел эти вещи, они на меня произвели отвратительное впечатление. Вот действительно Возрождение настоящее в своем крайнем выражении.
Как Леонардо превознесен, а смотри, какой ужас, ведь это не человек, а ведь это гад какой-то! Это, конечно, передовое, но вот какое передовое? Совсем не то, о котором думают обычно, говоря о Ренессансе. Как от Бога отказался, так потом дьявольщина началась. Это же дьявольщина всё.
Опыт, если его взять в чистом виде, он же страшный. Теперь вокруг нас обычно опыт упорядоченный. А возьми опыт в чистом виде – это же будет ад, антихристианство.
Я думаю, что Бога здесь нет. Или – неимоверный дуализм, когда Бог одно, а мир, все эти чудовища и змеи, совсем другое. Я думаю всё-таки, что Бога Леонардо не признает, католического и православного Бога он не хочет. Хотя ведь старый Бог допускал и зло и даже распятие богочеловека. Но теперь мало этого, так тогда ему надо такого бога, который допускает всё зло.
Какие огромные перемены на моем веку! Сейчас, конечно, тоже борьба, Брежнев какие-то теории устанавливает, но она чисто политическая, и она меня не касается. Но всё равно, всё может вернуться…»
Казалось бы, где Леонардо, а где – Брежнев? Но даже в разговорах о далеком прошлом вечный страх не отпускает человека, который натерпелся произвола и в лагере – на строительстве Беломорско-Балтийского канала, и на свободе – от редакторов, издателей, рецензентов, от институтского начальства. Через двадцать с лишним лет после смерти Сталина, в мае 1974 года, например, Лосев проговаривается: «Дело идет к тому, что года через два вернемся к сталинизму. Вы-то, молодежь, пришли на готовенькое, на Хрущева, а Хрущев это зеленая улица. Вы ничего не знаете. На ваших глазах никого не топтали». «А при Сталине, – бросает он в другой раз, – так было просто невозможно. Никто не знает тех страданий, тех унижений и тех оплеваний, которые я претерпел». «…Миллионы погибли в лагерях. Всего в целом пятьдесят миллионов погибло в сравнении с тремя тысячами Робеспьера. Не снабжали во время войны. В чем дело? Тип людей виноват? Нет, всякого типа люди пришли к власти. Чичерин дворянин, Ленин дворянин. Просто такой период истории пошел – алогический, зверский. Дирижер управляет палочкой, Ленин оглоблей. Куда повернет… Оглобля и Сталин. По нему формировался целый тип людей».
От этой власти некуда было спрятаться. И Лосев, как многие, если не все, вынужден был приспосабливаться. «Я вынес, – сокрушается он, – весь сталинизм, с первой секунды до последней на своих плечах. Каждую лекцию начинал и кончал цитатами о Сталине. Участвовал в кружках, общественником был, агитировал. Все за Марра – и я за Марра. А потом осуждал марризм, а то не останешься профессором». И судит себя, прежнего, без снисхождения: «Я ведь был подлипала… я ведь выходил на кафедру и говорил, что, товарищи, никаких индоевропейских языков не существует, это реакционная теория об арийском племени. Лосев ведь был такой подлиза и верноподданный. А после своих выступлений плакал и каялся: что же это я говорил?» Но судить судит, а от въевшегося навыка и в вегетарианские времена освободиться не может: «Я хоть пускаюсь в тонкости, но везде у меня цитаты из Маркса, есть всё, что нужно». Здесь Бибихин в укор Лосеву сообщает нам, как долго сам он боролся в издательстве «Искусство» против цитаты из Маркса в предисловии к переводам Петрарки. И победа пришла: «Цитата была вставлена начальством, но с пометой Прим. ред.».
В этом пункте – уступать давлению или сопротивляться – и происходит размежевание между битым стариком Лосевым и непоротыми молодыми интеллектуалами. Бибихин записывает заключительные слова Лосева на его чествовании в декабре 1983 года в связи с 90-летием: «Тут говорили про количество моих работ. Но эти 450 статей кто печатает? Если бы Лосев не находил отклика, было бы такое возможно? Нет, Лосеву есть за что благодарить наше советское руководство. Я – поэтому – и – благо – да – рен…» А мне помнится, там еще и фамилия Андропова, тогдашнего генсека и многолетнего главного гебиста, была названа с благодарностью. И я с недоумением говорил об этом В.Я. Лазареву, который среди прочих выступал там с приветствием. Владимир Яковлевич грозился, что не упустит высказать самому Лосеву нашу досаду. Чего бояться в 90 лет? Да уж не того, что будет, а того, что было.
По-видимому, та самая лояльность, которая в глазах Лосева умаляла Флоренского, позволила теперь Аверинцеву назвать Лосева человеком, который, «уже переставши жить, продолжает работать, уже переставши слушать, продолжает говорить». Лосев, конечно, не знал этого «сыновнего» отзыва, но к научной и преподавательской удаче и карьере Аверинцева относился ревниво: «Аверинцев? Он всё время заикается. Не знаю, как он там говорит в университете. Не мои ли лекции пересказывает?»; «Аверинцев? Не знаю… Ничего не знаю и знать не хочу, кто он. Я с того же начинал, что и он, меня бы за меньшее выгнали. Не хочу ни об Аверинцеве, ни о всех новых ничего знать»; «Существо теорий у меня с Аверинцевым близкое, но в смысле общественно-политической деятельности он Шаляпин, а я – преподаватель греческого языка».
В.В. Бибихин как раз читал верстку рассказов и разговоров А.Ф. Лосева, когда пришло сообщение о кончине С.С. Аверинцева, и автор решил включить в книгу и разговоры Аверинцева, каждая встреча с которым была «праздником или событием». А едва книга вышла в свет, стало известно, что умер и сам Бибихин.
Павел Беккерман – РУБРИКА «ШАНСОН»
Звёзды шансона
Андрей Данцев
 Андрей Данцев — поэт, композитор и исполнитель. Он
родился в Ставрополе в 1960 году, а с 1968 года и по сей день живет в
подмосковной Электростали. С детства Андрей занимался музыкой — сначала закончил
семилетний курс музыкальной школы по классу фортепиано, а затем прошел
двухгодичную практику в джазе.
Андрей Данцев — поэт, композитор и исполнитель. Он
родился в Ставрополе в 1960 году, а с 1968 года и по сей день живет в
подмосковной Электростали. С детства Андрей занимался музыкой — сначала закончил
семилетний курс музыкальной школы по классу фортепиано, а затем прошел
двухгодичную практику в джазе.
В 1990 неугомонная творческая натура привела Данцева на сценарное отделение ВГИКА. Оттуда пришлось уйти на втором курсе по семейным обстоятельствам, но именно по окончании студенческого периода началась активная творческая деятельность Данцева. С 1989 по 1991 — он участник творческой мастерской Александра Розенбаума, работает в группе музыкально-поэтической буффонады "ТЧК" в родной Электростали. В этот же период Андрей успешно выступает на конкурсах авторской песни. Победив на многих городских конкурсах в 1990 году он занимает второе место на Московском региональном конкурсе авторской песни и получает приз зрительских симпатий, а уже в 1991 становится лауреатом Всесоюзного конкурса авторской песни в Старом Осколе. В 1993 году Данцев работает с творческим коллективом в Китае на протяжении четырех с половиной месяцев. Почти десятилетие Андрей находится в творческом поиске, а также борется со российскими реалиями, понятными каждому человеку, жившему в России в этот период.
Перемены наступили лишь в 2002 году, когда Андрей созрел для выпуска первого сольного альбома, а главное — были найдены спонсоры, заметившие талантливого автора-исполнителя. Ими стали Сергей Спиридонов (Компания "Инга Л.Т.Д.") ,Сергей Лазарев, Александр Золотых и Константин Малыгин.
Так, в ноябре 2003 года Компания "Квадро-диск" выпустила первый сольный альбом Андрея Данцева "Красный буек", который успешно разошелся во всех уголках России и за рубежом. Кроме одноименной шуточной композиции, в альбоме присутствуют песни на любой вкус: от традиционных шансонных хитов ("Морозы Магадана", "Эй, лабух!") до проникновенной лирики ("Босса-нова дождя", "Давайте разменяемся, мадам!", "Романс любимой"), а центральное место, на мой взгляд, да и по мнению многочисленных критиков, занимает серьезная яркая композиция "Два бога", которая постоянно звучит в концертах по заявкам на многих региональных радиостанциях. Это — песня о чеченской войне, в которой Андрей Данцев показал свой взгляд на эту проблему. Он имел на это полное право — бывал в Чечне с концертами, за что был отмечен на государственном уровне.
Сейчас Андрей занимается подготовкой выпуска своего второго альбома "Вот такая байда!" Ведутся интенсивные переговоры с звукозаписывающими компаниями.
Андрей Данцев является не только моим другом, но и соавтором.
В будущем мы надеемся порадовать слушателей новыми совместными проектами. Сам же Андрей пишет песни и для других исполнителей, причем в разных жанрах. Столичные радиостанции обходят своим вниманием творчество Данцева, но в регионах его знают, а главное —рестораны поют его замечательные песни!
Сергей Бурмистров
 В нашей рубрике мы рассказываем об известных
представителях жанра, имена которых нечасто случается слышать в радиоэфире, а
также легендах жанра, безвременно ушедших.
В нашей рубрике мы рассказываем об известных
представителях жанра, имена которых нечасто случается слышать в радиоэфире, а
также легендах жанра, безвременно ушедших.
Одним из таких людей является Сергей Бурмистров. Из личного общения с ресторанными музыкантами, а также известными шансонье, я понял, что Сергей был не только ярчайшим композитором, исполнителем, но и незаменимым продюсером и вдохновителем. Рассказы сводились к следующему: многим он бескорыстно помогал всем, чем мог, а после его смерти сколько исполнителей затихли и сошли с музыкального небосклона!
Сергей Бурмистров родился 21 июня 1961 года в Москве. Музыкальные способности у него проявились рано и еще будучи в детском саду, он был принят в музыкальную школу. При прослушивании у него обнаружили абсолютный слух. Сергей выпустил 8 альбомов, а девятый находился в работе, но в ночь с 9 на 10 октября 2001 года сердце певца остановилось.
Бурмистров в основном писал музыку на стихи поэта Виктора Котелевского, с которым учился в одной школе и жил в одном доме. Несколько песен Сергей написал на стихи Карена Кавалерьяна. 23 февраля 2000 года Бурмистров принял участие в фестивале русского шансона под названием "Звездная пурга". Вот как об этом событии было написано в одном из журналов: "Сергей выступил со своим хитом "Пой, певица", особенно популярным на американском континенте. Нет такой ночи, чтобы эта песня не звучала в ресторанах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка".
Еще известно, что Бурмистров был одним из первых вдохновителей группы "Белый орел", поющей столь душевные и проникновенные песни.
Новинки шансона
 Сегодня в новинках из мира шансона аудиосборники компании Central Music,
где, также как в сборниках Альфа-рекордс, представленных в нашем прошлом
номере, можно встретить созвездие новых имен.
Сегодня в новинках из мира шансона аудиосборники компании Central Music,
где, также как в сборниках Альфа-рекордс, представленных в нашем прошлом
номере, можно встретить созвездие новых имен.
Набирает обороты фирменная серия Central Music "Черная кошка". В
третьем выпуске, рядом со знакомыми слушателям Анатолием Полотно, Гришей
Заречным, Макаровной, Марком Винокуровым, Дмитрием Персиным, Владимиром Нежным,
Александром Лесниковым и Евгением Шапоревым, можно встретить новые имена:
Андрея Таланова,  Николая Юрьевича, Виталия Синицу и Игоря Кабаргина,
Большого, Славу Ярославского с новой версией "Мурки", а также
представительниц немногочисленной женской половины городского романса —
Любовь Николаеву и Наталью Старинскую.
Николая Юрьевича, Виталия Синицу и Игоря Кабаргина,
Большого, Славу Ярославского с новой версией "Мурки", а также
представительниц немногочисленной женской половины городского романса —
Любовь Николаеву и Наталью Старинскую.
 Еще одна новинка – сборник "Первый централ — наш
формат". На этой пластинке присутствуют ряд исполнителей, упомянутых выше,
а также Семен Канада, "Маленькая я", Виссарион Клубника, Юрий
Долгорукий, Михаил Босс, Флор, группа "Стоп-кран", Владимир Михайлов
с пронзающей душу песней "Плач скрипки".
Еще одна новинка – сборник "Первый централ — наш
формат". На этой пластинке присутствуют ряд исполнителей, упомянутых выше,
а также Семен Канада, "Маленькая я", Виссарион Клубника, Юрий
Долгорукий, Михаил Босс, Флор, группа "Стоп-кран", Владимир Михайлов
с пронзающей душу песней "Плач скрипки".
Алексей Варламов
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Летом 1909 года Николай Гумилев попытался издавать поэтический альманах взамен прекратившего свое существование "Сирина". Идея этого проекта принадлежала Алексею Толстому, который предложил название - "Речь", но Гумилеву больше понравилось "Остров".
В анонсе нового издания говорилось о том, что во главе его станут Н. Гумилев, М. Кузмин, П. Потемкин, Ал. Толстой и К. Бальмонт. Сотрудничать с "Островом" обещали также Белый, Блок, Анненский и Волошин.
Редакция располагалась в Петербурге в доме номер 15 на Глазовской улице, где жил Толстой, называвший себя первым "островитянином". Издателем стал журналист А. И. Котылев, входивший в окружение Куприна. Об этом издании Толстой впоследствии писал:
"Один инженер, любитель стихов, дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал обложку. Первый номер разошелся в количестве тридцати экземпляров. Второй — не хватило денег выкупить из типографии. Гумилев держался мужественно".
Большого успеха "Остров" не имел. После выхода первого номера нового журнала С. Бобров писал Андрею Белому: "Видели ли вы "Остров"? Хотя первому блину полагается по штату быть комом - но все же я не ожидал, что петербуржцы дадут так бессовестно мало! Волошин - только приличен. Гумилев - ужас! - безвкусица невероятная… Алексей Толстой кое-где мил, но (не знаю почему) его стихотворения производят на меня впечатление большой несерьезности".
И все же, несмотря на неудачу, идею издавать или участвовать в издании поэтического журнала Гумилев не оставил и когда осенью 1909 года на литературном горизонте появился журнал "Аполлон", главным редактором которого стал поэт, литературный критик, устроитель художественных выставок Сергей Маковский. Гумилев играл в этом проекте очень большую роль. Толстой тогда еще находился в гумилевской орбите, вместе с ним "обсуждал планы завоевания русской литературы" и в "Аполлоне" был своим человеком. Первый номер вышел в конце октября и открытие журнала шумно отмечалось петербургской литературной элитой сначала в редакции, а затем в ресторане Кюба «Pirato». Немецкий поэт Иоганнес фон Гюнтер, приветствовавший журнал от имени европейских поэтов, позднее писал: "Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе, моя голова доверчиво лежала на плече у Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедектином".
Это был журнал, призванный встать над групповыми пристрастиями и объединить русских поэтов, в нем печатались стихи, критические статьи, манифесты, программы, именно в нем Кузмин опубликовал статью "О прекрасной ясности", с которой начался акмеизм. Но было в его истории и печальное - столкновение различных интересов и лиц, ускорившее, по мнению Ахматовой, смерть Анненского.
В сентябре 1909 года Анненский писал Маковскому:
"Дорогой Сергей Константинович,
По последнему предположению, которое у Вас возникло без совета со мною. Вы говорили мне, что моей поэзии Вы предполагаете отделить больше места (около листа или больше - так Вы тогда говорили), но во второй книжке "Ап". Теперь слышу от Валентина, что и вторую книжку предназначают в редакции отдать "молодым", т. е. Толстому, Кузмину etc. Если это так, то стоит ли вообще печатать мои стихотворения? Идти далее второй книжки - в размерах, которые раньше намечались, мне бы по многим причинам не хотелось. Напишите, пожалуйста, как стоит вопрос. Я не судья своих стихов, но они — это я, и разговаривать о них мне поэтому до последней степени тяжело. Как Вы, такой умный и такой чуткий, такой Вы, это забываете и зачем, - упрекну Вас, - не скажете раз навсегда, в чем тут дело? Ну, бросим стихи, и все".
Толстого предпочли Анненскому - есть отчего пойти голове кругом у одного и поперхнуться другому, но гораздо больнее ударил по Иннокентию Федоровичу еще один, последовавший месяцем позже отказ Маковского печатать его стихи:
"Я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в "Аполлоне". Из Вашего письма я понял, что на это были серьезные причины. Жаль только, что Вы хотите видеть в моем желании, чтобы стихи были напечатаны именно во 2 №, - каприз", - писал Анненский буквально за три недели до смерти, но на самом деле каприз был не у Анненского, а у Маковского, и даже не каприз, и не у одного Маковского, а нечто вроде описанного Стефаном Цвейгом "амока", охватившего почти всю редакцию "Аполлона". А связано это наваждение было с тем, что на поверхность эстетского журнала, вокруг которого двигались по своим орбитам и печатались в свой черед крупные и мелкие, молодые и постарше поэты, упал метеорит или обрушился средней силы тайфун или, лучше всего сказать, появился на горизонте неопознанный летающий объект.
У этого аномального поэтического явления был свой трагикомический пролог, место действия которого - коктебельская дача Волошина, а три главных действующих лица - хозяин дачи, Гумилев и женщина, ими не поделенная. О женщине этой и об истории, которая в связи с ее стихами и поступками, а точнее стихами-поступками разыгралась, много писали и мемуаристы, и историки литературы. Считается, что это одна из самых ярких и фантастических страниц русской поэзии Серебряного века. Писал о ней и Алексей Толстой.
"Летом этого года Гумилев приехал на взморье, близ Феодосии, в Коктебель. Мне кажется, что его влекла туда встреча с Д., молодой девушкой, судьба которой впоследствии была так необычайна. С первых же дней Гумилев понял, что приехал напрасно: у Д. началась как раз в это время ее удивительная и короткая полоса жизни, сделавшая из нее одну из самых фантастических и печальных фигур в русской литературе.
Помню, в теплую, звездную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря. В темноте на полу, на ковре, лежала Д. и вполголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окруженных фантастикой и тайной.
Гумилев с иронией встретил любовную неудачу: в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму «Капитаны». После этого он выпустил пауков и уехал".
Сознательно или нет, но в изящные воспоминания Толстого вкралось много ошибочного, начиная с того, что Гумилев и Д. приехали в Коктебель не порознь, а вместе, и заканчивая ролью каждого из этой троицы.
Д. - это Елизавета Ивановна Дмитриева, слушательница "про-Академии" на башне у Вячеслава Иванова. Гумилев был знаком с ней еще по Парижу с 1907 года, а Толстой познакомился в феврале 1909-го в Петербурге. После перенесенного в детстве туберкулеза костей и легких, она немного прихрамывала, была полновата, но на некрасивом ее лице удивительно смотрелись пронзительные глаза. Ее женскую судьбу нельзя было назвать обделенной, скорее наоборот - мужчин тянуло к ней. Иоганнес фон Гюнтер утверждал, что "она не была хороша собой, скорее - она была необыкновенной, и флюиды, исходившие от нее сегодня, вероятно, назвали бы "сексом". Когда Дмитриевой было 13 лет, ее добивался некий теософ, оккультист и сладострастник, а жена этого деятеля устраивала Лизе сцены ревности. Во время описываемых событий 1909 года у нее был жених Всеволод Васильев, отбывавший воинскую повинность и в дальнейшим ставший ее мужем, сама она безответно и беззаветно любила Волошина, а ее любви домогался Гумилев. У Лизы-хромоножки, как будто сошедшей из романов Достоевского, от такой жизни голова шла кругом.
"Это была молодая, звонкая страсть… Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство - желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. В мае мы вместе поехали в Коктебель…"
О Коктебеле Толстой писал в стихах:
Здесь редко птица пролетит
Иль, наклонясь, утонет парус…
Песок и море. И блестит
На волнах солнечный стеклярус.
Прищурясь, поп лежит в песке,
Под шляпою торчит косица;
Иль, покрутившись на носке,
Бежит стыдливая девица…
…нарушила вчера
Наш сон и грусть однообразья
На берегу в песке игра:
"Игра большого китоврасья".
Описывать не стану я
Всех этих резких ухищрений,
Как Макс кентавр, и я змея
Катались в облаке камений.
Как сдернул Гумилев носки
И бегал журавлем уныло,
Как женщин в хладные пески
Мы зарывали… было мило…
Было мило. Была игра, была забава, но по меньшей мере по двоим из гостей волошинского дома она ударила очень больно.
"В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. С. Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе, его, меня и М. А. - потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая - это был М. А…
То, что девочке, казалось чудом, совершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно; к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: "Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву, я буду тебя презирать"...
Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор!… О, зачем они пришли и ушли в одно время!"
Люди Серебряного века жили напоказ, чувств своих не стеснялись и не прятали, и целомудрие гнали вон. Порой они и сами не понимали, где кончается литература, театр, игра, а где начинается жизнь.
"Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнейше запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных", - писал позднее в своих мемуарах Ходасевич.
И, добавим, жестоко за это платились.
"Знали, что играют, — но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. "Истекаю клюквенным соком!" кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящею кровью".
Блок, Менделеева, Белый.
Брюсов, Петровская, Белый.
Гумилев, Дмитриева, Волошин.
Волошин, Сабашникова, Вяч. Иванов.
Любовные треугольники нашего Парнаса, его "тройственные союзы". И везде (за исключением последнего) фигурировало оружие или его угроза. Смерти, слава Богу, не было ни одной, но смерть была в двух шагах. И сильнее всего страдали женщины.
"За боль, причиненную Н. С. у меня навсегда были отняты и любовь и стихи".
Так заканчивается короткая, всего на три страницы исповедь Черубины де Габриак, от имени которой присылали осенью 1909 года стихи Дмитриева и Волошин в редакцию "Аполлона", мистифицируя его сотрудников во главе с главным редактором. Черубину никто не видел, Маковский только говорил с ней по телефону и признавался, что будь у него 40 тысяч годового дохода, непременно посватался бы. "Маковский влюбился в нее по уши; барон Врангель, Зноско, Ауслендер тоже. Гумилев вздыхал по экзотической красавице и клялся, что покорит ее. Вся редакция горела желанием увидеть это сказочное существо. Ее голос был такой, что проникал прямо в кровь. Где собирались трое, речь заходила только о ней".
Примечательно, что Толстого в списке влюбленных нет. И вовсе не потому, что он был женат или, что совсем невероятно, маловлюбчив. Просто он был авгур, а люди этого сорта хорошо разбираются в чужих душах и для них тайн на свете не существует.
Меж тем загадочная Черубина присылала стихи, которые с листа шли в номер, отодвигая другие материалы (включая и стихи Аненнского). Неизвестно, каким был в процент участия в этих стихах Дмитриевой, а каким Волошина.
"В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля", - вспоминал Волошин. Цветаева свидетельствовала: "Нет обратнее стихов, чем Волошина и Черубины. Ибо он, такой женственный в жизни, в поэзии своей — целиком мужественен, то есть голова и пять чувств, из которых больше всего — зрение. Поэт — живописец и ваятель, поэт — миросозерцатель, никогда не лирик как строй души. И он так же не мог писать стихов Черубины, как Черубина — его. Но факт, что люди были знакомы, что один из них писал и печатался давно, второй никогда, что один — мужчина, другой — женщина, даже факт одной и той же полыни в стихах — неизбежно заставляли людей утверждать невозможность куда большую, чем сосуществование поэта и поэта, равенство известного с безвестным, несущественность в деле поэтической силы — мужского и женского, естественность одной и той же полыни в стихах при одном и том же полынном местопребывании — Коктебеле, право всякого на одну полынь, лишь бы полынь выходила разная, и, наконец, самостоятельный Божий дар, ни в каких поправках, кроме собственного опыта, не нуждающийся. «Я бы очень хотел так писать, как Черубина, но я так не умею», — вот точные слова М. В. о своем предполагаемом авторстве.
Макс больше сделал, чем написал Черубинины стихи, он создал живую Черубину, миф самой Черубины. Не мистификации, а мифотворчество, и не псевдоним, а великий аноним народа, мифы творящего. Макс, Черубину создав, остался в тени, — из которой его ныне, за руку, вывожу на белый свет своей любви и благодарности — за Черубину, себя, всех тех, чьих имен не знаю, — благодарности".
И все же несмотря на эти проникновенные строки история вышла шумная и в общем-то безобразная, хотя и выглядящая в мемуарах что Волошина, что Цветаевой, что Алексея Толстого красивой и слегка печальной.
"В пряной, изысканной и приподнятой атмосфере «Аполлона» возникла поэтесса Черубина де Габриак. Ее никто не видел, лишь знали ее нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Ее превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности. Я уже говорил, как случайно, по одной строчке, проник в эту тайну, и я утверждаю, что Черубина де Габриак действительно существовала — ее земному бытию было три месяца. Те, мужчина и женщина, между которыми она возникла, не сочиняли сами стихов, но записывали их под ее диктовку; постепенно начались признаки ее реального присутствия, наконец — они увидели ее однажды. Думаю, что это могло кончиться сумасшествием, если бы не неожиданно повернувшиеся события".
Согласно воспоминаниям Волошина Толстой не просто проник по одной строчке в эту тайну, но с самого начала все знал.
"Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон. Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А. Н. Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю, и не знал, как ему на них реагировать. Я только успел шепнуть ему: «Молчи. Уходи».
Он не замедлил скрыться".
Однако к затее Волошина отнесся отрицательно: "А. Н. Толстой давно говорил мне: "Брось, Макс, это добром не кончится", - вспоминал Волошин, но не бросал. Не такой был человек этот, по определению Ходасевича, "великий любитель и мастер бесить людей", и не такое было время.
Окончание истории - разоблачение Черубины де Габриак - оказалось тяжелым. Алексей Толстой, в присутствии Кузмина подтвердивший 16 ноября 1909 года Маковскому «все о Черубине», Маковский, сделавший вид, что он все с самого начала знал и просто давал мистификаторам доиграть свою роль до конца, Гумилев, оскорбивший Дмитриеву словами (и с мужской точки зрения за дело - а как иначе назвать "хочу обоих"?), Волошин, который нанес ему тяжелую пощечину ("Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно… Я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского, который говорил: "Достоевский прав. Звук пощечины - действительно мокрый"), вызов на дуэль и, наконец, молодой граф Толстой, свидетель всему, начиная от Коктебеля и заканчивая Черной речкой в качестве секунданта Волошина. Секундантом Гумилева был Кузмин.
Все это напоминало какую-то дурную пьесу, где все за исключением одного человека валяли дурака, и тот, все понимая скрежетал зубами в бессильной ярости, но поделать ничего не мог. Ему было легче в Африке, а потом на Первой мировой, а потом, должно быть в ЧК. Там он не был смешон и нелеп, тут - был.
Что думал об этом сюжете Алексей Толстой и на чьей был стороне? Кто с его точки зрения более прав - Гумилев или Волошин и почему он стал секундантом обидчика, а не обиженного? Имел ли право Гумилев дурно отзываться о Дмитриевой? Справедливо ли ударил Волошин Гумилева? Где граница между литературной мистификацией и провокацией? Едва ли у Толстого были на эти вопросы ответы. Его пригласил Волошин, они оказались более близкими друзьями, чем с Гумилевым, а если бы позвал Гумилев, наверное пошел бы и к нему. Он не занимал ни одну из сторон. Его задача состояла в том, чтобы своими большими ногами отмерить как можно более широкие шаги и развести двух поэтов подальше друг от друга, что он с успехом и сделал, однако любопытно, что в написанном в 1921 году мемуаре Толстой взял под защиту Гумилева:
"Я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, — в произнесении им некоторых неосторожных слов — было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь. В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки «Орфея», произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В., бросившись к Гумилеву, оскорбил его. К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилев, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В. на дуэль".
Дмитриева в своих воспоминаниях утверждала, что оскорбление было. "В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на "Башне" говорил бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павловне Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты".
Дуэль состоялась на Черной речке ("Стрелялись… если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему", - вспоминал Волошин). Гумилев настаивал на самых жестких условиях, и секундантам едва удалось его отговорить.
"Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти".
А они шутили и толком ничего не умели - ни зарядить старинные пистолеты, ни развести противников на нужное расстояние, ни грамотно себя вести. Пушкин или Лермонтов, увидя такое, только плюнули бы. Поэты были в начале ХХ века хорошие, но дуэлянты - никакие.
"Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего расставив ноги, без шапки.
Передав второй пистолет В., я, по правилам, в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два... (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов) ...три! — крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет, и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством:
«Я требую, чтобы этот господин стрелял». В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». — «Пускай он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилев, — я требую этого...» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять: «Я требую третьего выстрела», — упрямо проговорил он.
Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.
юморески: Олег Вулф
ПИСЬМО УЧЕНОГО ИЗ США
Ценная Людмила, Моё имя есть Дон Джонс.
Я есть 39 старый Американский человек года. Я есть высокий 159 см и не дымятся или пьяный. И Я служу с помощью Американская Компания Нью-Йорк Банк и также имею Магистр Делового Степени Университета Монах.
Я женился от 1997 до 1999 включительно и вот теперь имею двух ребёнков, кто Я вижу. Мой 4 старый человек года называется Bob, и моя 3 старая дочка называется Irene. Я получаю Удовольствие от взятия их к площад для игр и разрешаю им играть на колебаниях. Я также получаю Удовольствие от историй чтения к ним от книг children's. И они со мной, как у кота за пазухой.
Мой хобби включили теннис, книги чтения, слушая музыки и играя фортепьяно. Я также получил Удовольствие от учёбы инородных языков, потом Я хотел путешествовать и извещать различные страна. Три годы назад Я тратил 6 месяцев, учащих немного Итальянский. Я потом тратил и следующих 6 месяцев, учащих немного Испанский. Теперь Я могу читать предложения, которые не есть тяжёлыми. Я могу также писать, но необходимо зависеть от Словаря и Книги Грамматики, чтобы помочь Мне.
Я есть нестоящий очень человек в разговор или слушания, но Я имею Итальянских Друзей. Я тратил последние две Японскую учёбу лет, и в Ноябрьском прошлом году Я навестил Япония на протяжении недели собой. Поскольку Я не являюсь плавным в Японский разговор, Я знал достаточно количество Японское, чтобы не быть Потерянным.
Когда Я тринадцать, Я научил то, как произнести Русские Кириллица буквы, из-за того, что Я хотел научить то, как быть Русски, поскольку Я использовал, чтобы получить Удовольствие от Игры Шахмат (Я не играю в Шахматы очень много этих дней).
В будущем Я хотел в состоянии любить и разделять Свою жизнь с другое лицо. Мне нравятся ребёнки, если Я был обязан стать отцом снова it's OK with me. Если Я не имею никаких больших ребёнки, что есть тоже OK для меня.
Я думаю, что в родстве важно быть в состоянии сообщить честно, но не повредить другие чувства партнёра. Другие словами, важно уважить чувства другое лицо. Я хотел бы партнёра, который является любезным, заботясь, умный, быть бы в состоянии заговорить многое, и имеет чувство юмор.
Я не дымлюсь, и я очень редко пьют алкогольные питья. Я не беру медицин или не играю в плохая азартные игры. Только один раз в русскую рулетку, но ни разу еще не выиграл.
Если вы интересуетесь, вы можете послать буквы ко мне в адрес на вершине этой буквы. Я тоже имею Электронный Адрес.
И вот Я должен уйти теперь.
Яков Назаров
ГЛАЗ ФОТОГРАФА
 Сегодня фотоаппарат часто используют как средство для
получения одной из составляющих будущего произведения искусства, куда потом
подключаются компьютерная обработка, графика, тексты и все, что угодно. Но это
не фотография, хотя иногда по инерции ее так и называют. Я же имею в виду
фотографию в ее классическом понимании. Единственный творческий инструмент
фотографа – его глаз, в котором концентрируется его зрительный и душевный нерв.
Сегодня фотоаппарат часто используют как средство для
получения одной из составляющих будущего произведения искусства, куда потом
подключаются компьютерная обработка, графика, тексты и все, что угодно. Но это
не фотография, хотя иногда по инерции ее так и называют. Я же имею в виду
фотографию в ее классическом понимании. Единственный творческий инструмент
фотографа – его глаз, в котором концентрируется его зрительный и душевный нерв.
 Внешняя картина жизни, окружающая нас, чрезвычайно
раздроблена и состоит из множества хаотических случайностей. Но если вы умеете
следить за этим броуновским движением и за мгновенья предвидеть передвижения
предметов в пространстве, вы можете поймать миг, когда неожиданное совмещение
двух или трех объектов создает композицию, наполненную эмоциональным и
интеллектуальным содержанием, которое, если бы не глаз фотографа, тут же
растворилось бы в быстротекущем потоке жизни.
Внешняя картина жизни, окружающая нас, чрезвычайно
раздроблена и состоит из множества хаотических случайностей. Но если вы умеете
следить за этим броуновским движением и за мгновенья предвидеть передвижения
предметов в пространстве, вы можете поймать миг, когда неожиданное совмещение
двух или трех объектов создает композицию, наполненную эмоциональным и
интеллектуальным содержанием, которое, если бы не глаз фотографа, тут же
растворилось бы в быстротекущем потоке жизни.